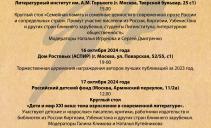Выходит с 1939 года
В НОМЕРЕ
«И цыганка сама вдруг поверит благородным своим королям»
«Немец склонился к лунке, вытащил мяч, выпрямился и повернул его в вытянутой руке, как фокусник. Мяч крутанулся на кончиках длинных пальцев и на мгновение превратился в крошечную, словно кукольную, хорошенькую головку. С льняными волосами, трагическими бровками и лазурными хрустальными глазками, отчего-то очень отчётливыми. — Я вам представлю: Виллим Иванович Монц! — Пальцы шевельнулись — и снова стал мяч».
Повесть Елены ЕРМОЛОВИЧ «Девять лунок» — магическая история#заклинание. В приморском городке играют в гольф отставной треш-стример и один из герцогов ада. Мяч скатывается в лунку — и катится на эшафот голова. Хроники королей, разбойников, принцесс, недолговечных кумиров. Повесть о переплетении поколений и хрупкости привычного мира. А последняя сказка спасла бы мир — будь этот мир реален.
«Жизнь продолженья требует»
Цикл стихотворений Сухбата АФЛАТУНИ «Январские святые» посвящён празднику Рождества Христова, святым Иосифу и Марии и святой Нине, просветительнице Грузии. В тонкой афористичной лирике Юрия КАЗАРИНА — вся полнота бытия, где «смешались крылья, снег и лыжи», а выше «только Бог и небо», но «с небом больно говорить». Стихи Ильи ФАЛИКОВА «Живую жизнь блюсти как жанр» — о любви, которая не проходит и никуда не уходит, даже когда случается невосполнимая потеря, когда «камена — верная вдова —/ обрела законные права/ на формат судьбы не по колодке». Подборка Сергея ПОПОВА «Детский вопрос» — про трудности нашего времени, и хотя «чёрные птицы поют о беде», но «с будущим быть полагают на ты». Владимир САЛИМОН предается воспоминаниям, как бы подглядывая «в щёлку между занавесок», и видит, что «мгновенья счастья,/ вереницей/
в неведомое держат путь».
«Кто чёрен и грешен, а кто светел и свят…»
«…Фельетон задел Казакова. Всё#таки “Крокодил” был популярен в народе, тираж — 1 500 000. Он говорил, что выдержал, стерпел, но сильно огорчились дома родители — Устинья Андреевна и Павел Гаврилович: “Ведь о ком фельетоны пишут? — о жуликах, ворах разных”. После фельетона, утверждал Казаков, его рассказы “повыкидывали” из журналов. Через пять лет, в 1966-м — мощь одного рассказа! — “Кабиасов” подвергнут коллективной пародии уже либеральные критики Сарнов, Рассадин и Лазарев». В рубрике «Культурный слой» — главы из будущей книги Сергея ШАРГУНОВА о Юрии Казакове: драматическая история альманаха «Тарусские страницы» и судьба его авторов и издателей, отношения, разговоры и переписка с К.Паустовским, И.Эренбургом, Ю.Домбровским…
«А ведь действительно, четверть века...»
«Горячая десятка» литературных критиков — о процессах, тенденциях и событиях литжизни нового столетия в сравнении с началом прошлого, о судьбе литературных манифестов и проектов и самых важных книгах и текстах. Александр МАРКОВ: «Классический модернистский сюжет “поиска себя”» сменяется сюжетом “сборки себя”». Евгений АБДУЛЛАЕВ: «Писать снова становится трудно и больно. Подул ветер истории, пока локально. …Возникла необходимость не просто в поисках нового языка — а новой системы языкового мышления». Валерия ПУСТОВАЯ: «Лучшая литература — сейчас, потому что ни до, ни после не будет этого чудесного моего с автором совпадения в процессе жизни...»